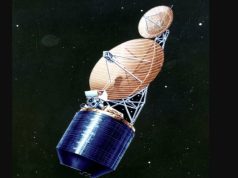В октябре на российском топливном рынке произошел неожиданный, почти театральный поворот: закупки бензина из Беларуси на Петербургской бирже выросли в 2,7 раза за месяц и в 47 раз — по сравнению с тем же периодом прошлого года. Железнодорожные поставки увеличились более чем втрое к октябрю 2024 года. Цифры впечатляют, но только до тех пор, пока не увидишь их в абсолютном выражении: 36,5 тысячи тонн биржевых продаж, 50 тысяч тонн железнодорожных поставок.
При ежемесячном потреблении в 3–4 миллиона тонн это менее 2% от общего объема. Никакого физического «затопления» рынка не произошло. И все же именно в октябре цены на бензин Аи-92 и Аи-95 рухнули на 12 и 9 % соответственно. Почему? Потому что в условиях дефицита и паники на рынке важен не сам объем, а сам факт его появления. Белорусский бензин стал не ресурсом, а сигналом, и этот сигнал сработал мощнее, чем десятки цистерн.
От паники к стабилизации: как лопнул топливный пузырь
Лето-2025 для российского топливного рынка выдалось жарким, и не только из-за погоды. К августу оптовые цены на бензин взлетели до рекордных 74,5 тыс. рублей за тонну (Аи-95), розничные — до 70–80 рублей за литр в ряде регионов. Причины были объективными: всплеск сезонного спроса, массовые внеплановые ремонты на НПЗ (частично из-за атак БПЛА), а главное, хронический дисбаланс: мощности переработки росли медленнее, чем экспортное давление и внутренние обязательства. В ответ правительство ввело жесткие меры: полный запрет экспорта бензина до конца года, ограничение отгрузок дизеля трейдерам, мораторий на обнуление выплат по демпферу. Но рынок продолжал нервничать.
Именно в этот момент и началась «белорусская волна». В сентябре поставки из РБ достигли максимума за год, в октябре закрепились на этом уровне. При этом импорт шел только по железной дороге: морских поставок не было вовсе — в России попросту нет терминалов, способных принимать импортный бензин. Как отметил вице-премьер Александр Новак, инфраструктура страны «заточена» под экспорт, а не под импорт. И все же поезд за поездом двигался на запад — не чтобы закрыть дефицит, а чтобы его остановить.
Психология предложения: как 50 тысяч тонн «взвесили» 4 миллиона
Экономисты давно знают: в кризисных условиях рынок реагирует не на объективные данные, а на ожидания. Когда участники верят, что дефицит будет расти, они начинают скупать, даже в убыток, чтобы перепродать дороже завтра. Это создает лавинообразный эффект: цены растут, паника усиливается, АЗС опустошаются. Обратный механизм работает так же: как только появляется доказательство того, что предложение может нарастить, даже минимальное, рынок охлаждается.
Именно это и произошло в октябре. Поставки из Беларуси стали тем самым «доказательством». Они были достаточно велики, чтобы быть замеченными трейдерами и сетями, но достаточно малы, чтобы не вызвать подозрений в «некачественности» или «дефиците у поставщика». Белорусский бензин не дешевый импорт из Азии, не сомнительная партия из Казахстана — это топливо с проверенной совместимостью, стандартами, транспортной схемой. Его появление свидетельствовало о том, что ресурсы есть. Дефицита больше не будет.
Это был «психологический успокаивающий фактор». Особенно для европейской части России, где дефицит ощущался острее всего — из-за перегрузки НПЗ и логистических узких мест. Поставки из Беларуси позволили российским нефтепереработчикам перебросить свои объемы в Сибирь и на Дальний Восток, где ситуация оставалась напряженной. А трейдеры и независимые АЗС даже шли на убытки, закупая белорусский бензин, лишь бы стабилизировать цены и сохранить лояльность клиентов.
Инфраструктурная ловушка: почему нельзя просто ввозить больше
При этом все участники рынка понимают: рост поставок из Беларуси имеет жесткие пределы. Мощности белорусских НПЗ — Мозырского и «Нафтана» — не безграничны. Внутренний спрос Республики Беларусь, экспорт в третьи страны и технологические ограничения не позволяют экспортировать в Россию по 200–300 тысяч тонн в месяц — это физически невозможно без реконструкции.
А в России даже 50 тысяч тонн в месяц — это уже нагрузка на логистику. Железнодорожные пути перегружены, цистерны дефицитны, терминалы на приеме работают на пределе. Морской импорт, несмотря на отмену пошлин, остается фикцией: в стране нет ни одного крупного нефтепродуктового терминала с возможностью приема танкеров и перекачки бензина в железнодорожную сеть. Как напомнил Новак, инфраструктура создавалась под экспорт — и перестроить ее за полгода нельзя.
Поэтому решение не в увеличении объемов, а в регулярности. Небольшие, но гарантированные поставки раз в 7–10 дней гораздо эффективнее, чем редкие рекордные партии. И этого достаточно, чтобы спекулянты перестали держать ставку.
Демпфер, пошлины и биржевые иглы: как власть взяла рынок под контроль
Белорусский бензин — лишь один элемент комплекса мер. Параллельно правительство ввело мораторий на обнуление выплат по демпферу, то есть нефтяные компании, поставляющие топливо на внутренний рынок, снова получают компенсацию за разницу между внутренними и экспортными ценами. Это сняло с них давление «работать в минус».
На бирже были ужесточены правила: ограничено количество заявок на покупку, введены жесткие коридоры колебаний цен. Это не позволило трейдерам искусственно сужать предложение, создавая иллюзию ажиотажа. А отмена импортных пошлин до середины 2026 года открыла потенциальную возможность ввоза, даже если пока ею никто не пользуется. Это тоже часть игры: рынок должен знать, что «план Б» существует.
Что дальше
В ближайшие месяцы, по оценкам аналитиков, ситуация стабилизируется. Зимой спрос на бензин традиционно падает, НПЗ выходят из ремонта, логистика нормализуется. Но системная проблема остается: внутренний рынок все еще уязвим перед локальными сбоями. Внеплановый останов одного крупного НПЗ — и в регионе снова начинается «паника на АЗС». А запас прочности — всего 2 % импорта.
Поэтому основной вопрос — не нужен ли белорусский бензин, а как сделать так, чтобы он не понадобился. Ответы лежат в трех плоскостях. Во-первых, модернизация НПЗ: увеличение глубины переработки, рост выхода бензина. Во-вторых, развитие внутренней логистики: строительство нефтепродуктопроводов, резервуарных парков, терминалов. В-третьих, изменение баланса интересов: переход от экспортоориентированной модели к приоритету внутреннего рынка.
Пока же Беларусь выполняет роль «страховочного троса». Ее бензин не панацея, но индикатор. Он показывает, что даже небольшое, но своевременное и надежное вмешательство может остановить цепную реакцию. А в условиях, когда рыночная паника часто опаснее реального дефицита, такой сигнал стоит дороже тысячи цистерн.
Заключение
Рост закупок бензина из Беларуси — это не триумф импортозамещения или провал отечественной нефтепереработки. Это пример того, как в современной экономике информационный и психологический факторы могут быть мощнее физических объемов. В мире, где цены формируются не в цистернах, а в головах трейдеров, факт поставки — это уже действие. А 50 тысяч тонн — это не просто топливо. Это сигнал о том, что ситуация под контролем. И если рынок в это верит, значит, так оно и есть.